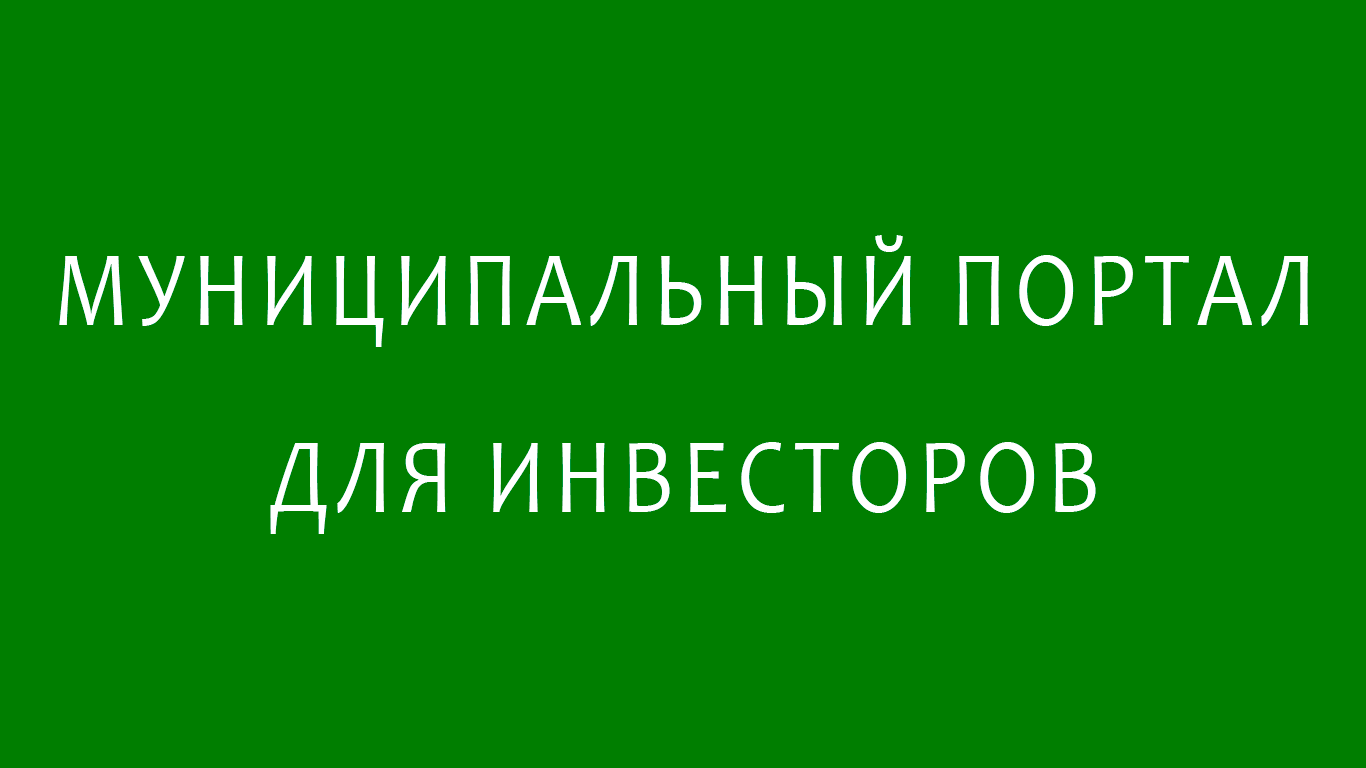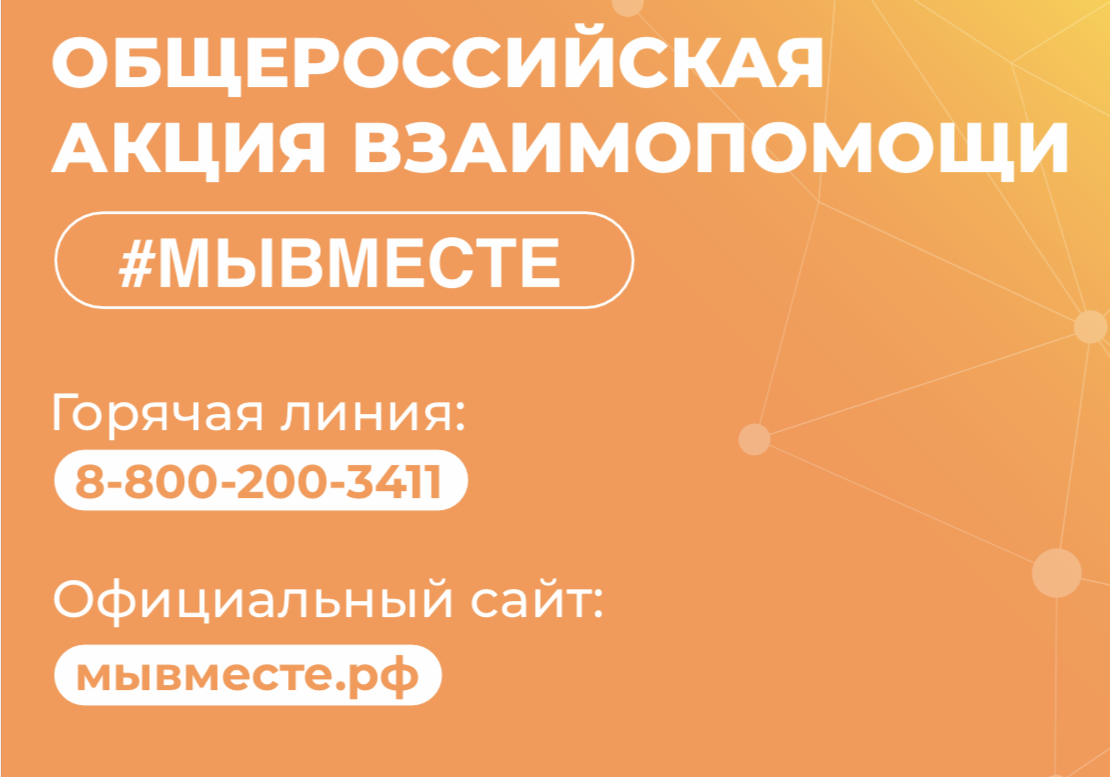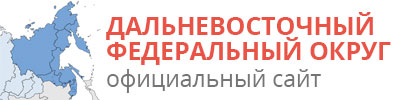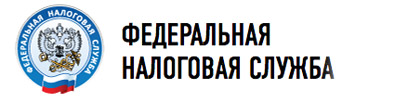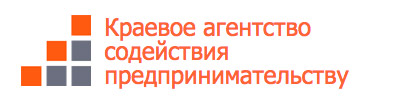Один из экспертов «АГ» указал, что неоднократное обращение в органы власти по одному и тому же обстоятельству, неустранение препятствий в принятии решения или непринятие мер по оспариванию отрицательного решения не могут рассматриваться как добросовестное заблуждение, а, напротив, являются злоупотреблением. По мнению другого, Конституционный Суд фактически допустил возможность уголовного преследования по признаку активности в отстаивании своих прав.
Конституционный Суд опубликовал Определение № 583-О/2025, которым разъяснил, что неоднократные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления могут расцениваться как клевета, если направлены на причинение вреда лицу, о противоправных действиях которого содержится информация в обращении.
Сергей Марков направил в администрацию президента заявление, в котором привел заведомо не соответствующие действительности сведения относительно Ф., имея при этом на руках предшествующие ответы компетентных органов по аналогичным обращениям, доводы которых не нашли своего подтверждения. В дальнейшем приговором мирового судьи, оставленным без изменения вышестоящими судебными инстанциями, мужчина был осужден по ч. 1 ст. 128.1 «Клевета» УК РФ за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию. Кроме того, суды отвергли утверждение стороны защиты о наличии оснований для прекращения уголовного дела в связи с неявкой частного обвинителя (потерпевшего) и его представителя в судебное заседание, констатировав уважительность ее причин.
Сергей Марков обратился с жалобой в Конституционный Суд, утверждая, что ранее не обращался по указанным им вопросам относительно Ф. к соответствующим должностным лицам, что доказательства его виновности частный обвинитель при обращении к мировому судье не представил. При этом, по его словам, суд отказал стороне защиты в получении доказательств. Также он указал, что суды не изучали причину отсутствия в судебном заседании представителя частного обвинителя и неосновательно отождествили понятия ложной и заведомо ложной информации.
Заявитель просил признать ч. 1 ст. 128.1 УК, ч. 2 ст. 20, п. 5 ч. 1 ст. 24 и ч. 3 с. 249 УПК не соответствующими Конституции. По его мнению, ч. 1 ст. 128.1 УК не предусматривает, что распространением информации при обращении к должностному лицу может выступать лишь неоднократное обращение того же заявителя по тем же вопросам, а также что добросовестное заблуждение лица относительно представленной им информации (ее неверная оценка) не может рассматриваться как распространение им заведомо ложных сведений. Сергей Марков посчитал, что ч. 2 ст. 20 УПК позволяет в нарушение его прав возбуждать уголовные дела о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 128.1 УК, в порядке частного обвинения; п. 5 ч. 1 ст. 24 и ч. 3 ст. 249 УПК не предусматривают в качестве основания для прекращения уголовного дела частного обвинения одновременную неявку в судебное заседание частного обвинителя (потерпевшего) и его представителя без уважительных причин.
Отказывая в принятии жалобы к рассмотрению, Конституционный Суд заметил, что ч. 1 ст. 128.1 УК применяется во взаимосвязи с положениями Общей части того же Кодекса, в том числе определяющими принцип и формы вины, основание уголовной ответственности (ст. 5, 8 и 25), и с учетом разъяснений, данных Пленумом Верховного Суда в Постановлении от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».
КС пояснил, что для квалификации деяния в качестве клеветы необходимо обязательное установление как общих признаков преступления, в том числе общественной опасности и противоправности, так и специальных признаков, образующих состав клеветы, наряду с прочим характеризующих ее объективную и субъективную стороны, включая заведомо ложный для лица характер распространяемых им сведений (Определение № 531-О/2023). При этом само по себе обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, связанное с реализацией конституционного права лица на обращение, не ведет к распространению этой информации.
Вместе с тем систематический характер такого рода обращений граждан, т.е. использование конституционного права на обращение в данные органы путем постоянного направления информации, вынуждающего их неоднократно проверять факты, указанные в обращениях, может свидетельствовать о намерении причинить вред лицу, о противоправных действиях которого содержалась информация в обращении (Определение № 3272-О/2019). Это подлежит выяснению на основе фактических обстоятельств в каждом конкретном случае, с учетом недопустимости установления судом лишь формальных условий применения нормы, на что неоднократно ориентировал в своих решениях и Конституционный Суд. Соответственно, нет оснований полагать, что ч. 1 ст. 128.1 УК содержит неопределенность в части признаков преступления, ввиду чего она сама по себе не может расцениваться в качестве нарушающей права заявителя обозначенным им образом.
Кроме того, как заметил Конституционный Суд, ранее он указывал, что законодатель вправе дифференцировать порядок производства по различным категориям уголовных дел, допуская включение в него элементов диспозитивности, которая предполагает учет волеизъявления лица, пострадавшего от преступления, вплоть до придания ему определяющего значения при принятии ряда ключевых процессуальных решений.
Так, предусматривая в Уголовно-процессуальном кодексе возможность осуществления производства по уголовным делам в порядке частного обвинения, законодатель исходил в том числе из того, что указанные в ч. 2 ст. 20 этого Кодекса преступления (включая предусмотренное ч. 1 ст. 128.1 УК) предполагают необходимость учета субъективного восприятия потерпевшим совершенного в отношении него деяния и относятся к числу тех, которые не представляют значительной общественной опасности и раскрытие которых по общему правилу не вызывает трудностей (постановления от 27 июня 2005 г. № 7-П/2005; от 28 июня 2023 г. № 36-П/2023 и от 28 марта 2024 г. № 13-П/2024). При этом в производстве по делам частного обвинения не умаляются гарантированные ст. 45 и 49 Конституции, ст. 11 и 14, ч. 4 ст. 47 УПК права и не вводятся различия между правовым положением осужденного по делу частного или публичного обвинения (Определение от 31 октября 2023 г. № 2741-О/2023).
Кроме того, добавил КС, вопреки позиции заявителя, последствия неявки в судебное заседание без уважительных причин самого частного обвинителя в виде прекращения уголовного дела частного обвинения (п. 5 ч. 1 ст. 24 и ч. 3 ст. 249 УПК) не могут быть тождественны последствиям такой неявки его представителя, который не может отстаивать в деле интересы, отличные от интересов представляемого им лица. Более того, как следует из представленных Сергеем Марковым судебных решений, причина конкретной неявки стороны обвинения в судебное заседание была признана уважительной. Соответственно, оспариваемые заявителем положения УПК также не могут расцениваться в качестве нарушающих его права в указанных в его жалобе аспектах. Внесение же целесообразных, по его мнению, изменений и дополнений в действующее законодательство не относится к компетенции КС.
Комментируя определение, адвокат АК «Кожанов и партнеры» Виктор Кожанов обратил внимание на полемику Конституционного Суда с заявителем, доводы жалобы которого сводились к несогласию именно с судебными актами, тогда как задачей этой особой судебной инстанции является не проверка судебных актов, принятых по делу, а проверка законоположений, примененных в деле заявителя, на соответствие Конституции.
Адвокат отметил, что реализация права на обращение в органы власти не исключает добросовестного заблуждения лица относительно представленной им информации и, соответственно, не может рассматриваться как распространение им заведомо ложных сведений. Между тем неоднократное обращение в органы власти по одному и тому же обстоятельству, неустранение препятствий в принятии решения или непринятие мер по оспариванию отрицательного решения все же не может рассматриваться как добросовестное заблуждение, а, напротив, является злоупотреблением, которое, исходя из фактических обстоятельств, не может не повлечь для этого лица определенные правовые последствия. «При обращении в Конституционный Суд следует внимательнее анализировать его практику, поскольку, как бы заявитель ни описывал неконституционность примененных законоположений, оценка Конституционным Судом доводов жалобы другого лица при рассмотрении аналогичного дела приводит к отказу в принятии жалобы», – указал он.
По мнению Виктора Кожанова, основной целью жалобы являлось вовсе не оспаривание законоположений, примененных в деле заявителя, а пересмотр его дела посредством реализации правомочий Конституционного Суда.
«Даже в отказных определениях Конституционного Суда нередко содержатся элементы интерпретационного правотворчества – разъяснения, имеющие практическое значение для дальнейшего правоприменения. В данном случае сформулированная Конституционным Судом правовая позиция вызывает серьезные опасения», – полагает адвокат, советник АБ «Забейда и партнеры» Артем Саркисян.
По его мнению, Конституционный Суд справедливо отметил, что реализация права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления сама по себе не образует состав распространения сведений, порочащих честь и достоинство. «Этот вывод следует приветствовать, поскольку он подтверждает конституционную значимость права на обращение как одного из базовых механизмов гражданского контроля. Однако в той же правовой позиции содержится формулировка, которая способна породить крайне опасную практику. Речь идет об указании на то, что систематический характер обращений – т.е. многократное направление информации в уполномоченные органы, вынуждающее их проводить проверки, “может свидетельствовать о намерении причинить вред лицу”. Подобный подход представляет собой правовую “мину замедленного действия”. На практике он может привести к тому, что реализация гарантированного Конституцией права на обращение станет объектом уголовно-правового риска, если будет признана чрезмерной или навязчивой. Это создает реальную угрозу chilling effect – самоцензуры граждан, которые из страха быть привлеченными к ответственности могут отказаться от защиты своих прав», – пояснил адвокат.
Артем Саркисян добавил, что в профессиональной деятельности регулярно сталкивается с необходимостью обращения в различные инстанции – не только в органы прокуратуры, СК и МВД, но и в иные контрольные и профессиональные структуры. Такой подход зачастую необходим именно из-за пассивности органов или отсутствия должного реагирования. Признание самой по себе кратности или настойчивости обращений признаком клеветы – путь к росту латентности нарушений и деградации механизмов общественного контроля. «Фактически Конституционный Суд допустил возможность уголовного преследования по признаку активности в отстаивании своих прав, что выглядит особенно тревожно в условиях общей тенденции к ужесточению подходов к клевете», – заключил он.